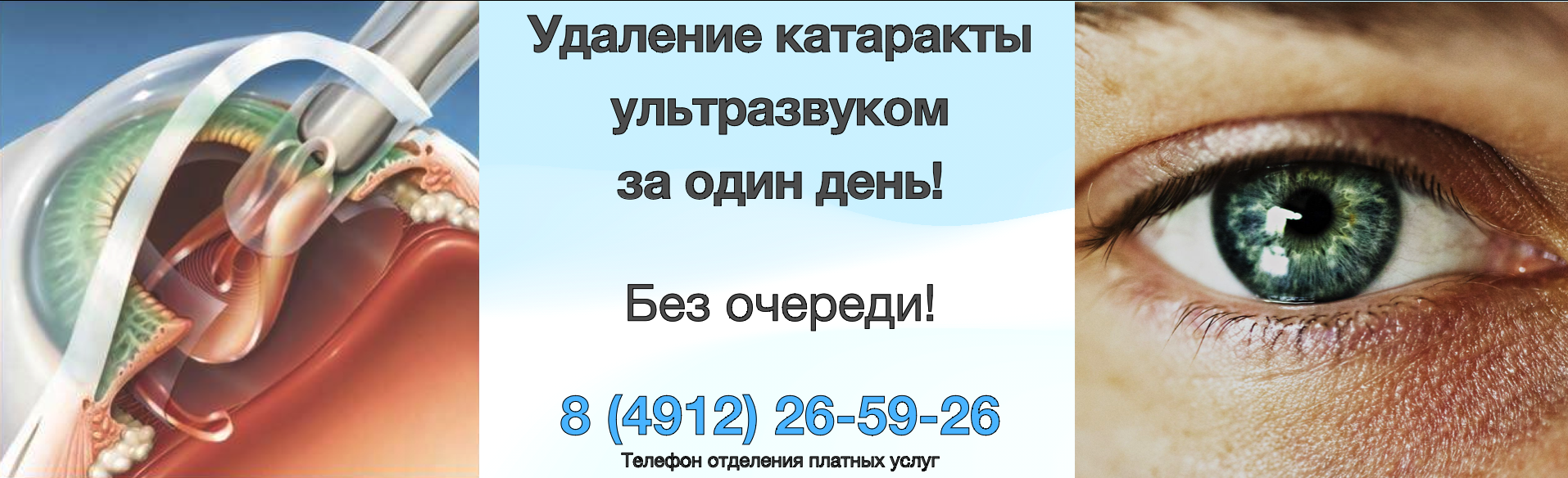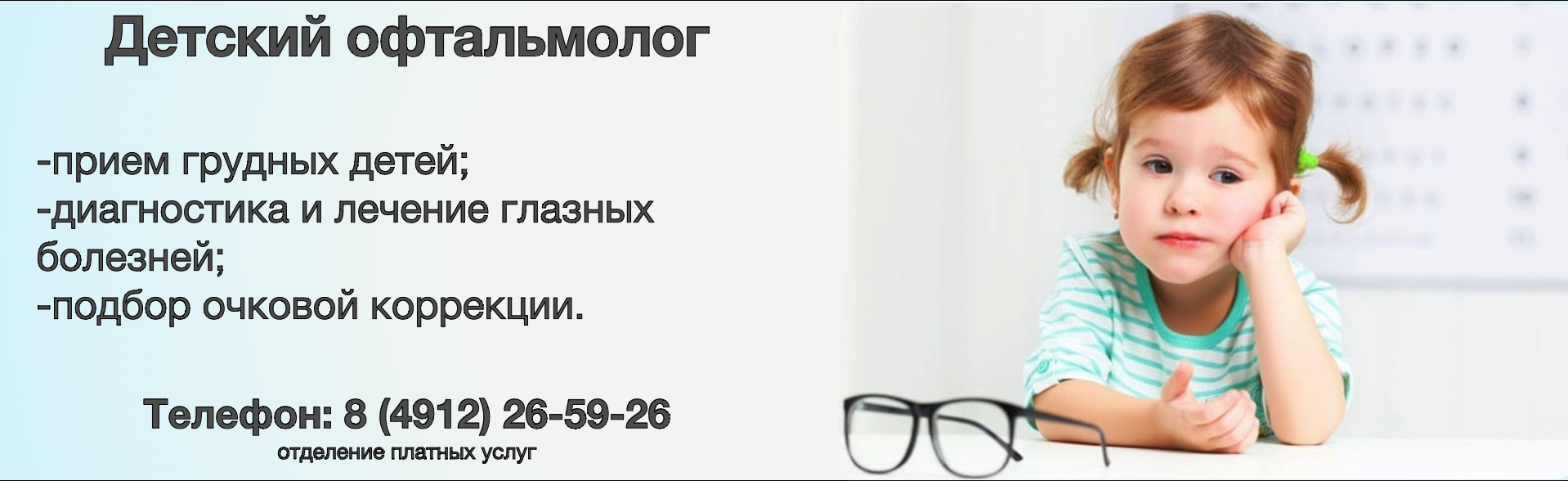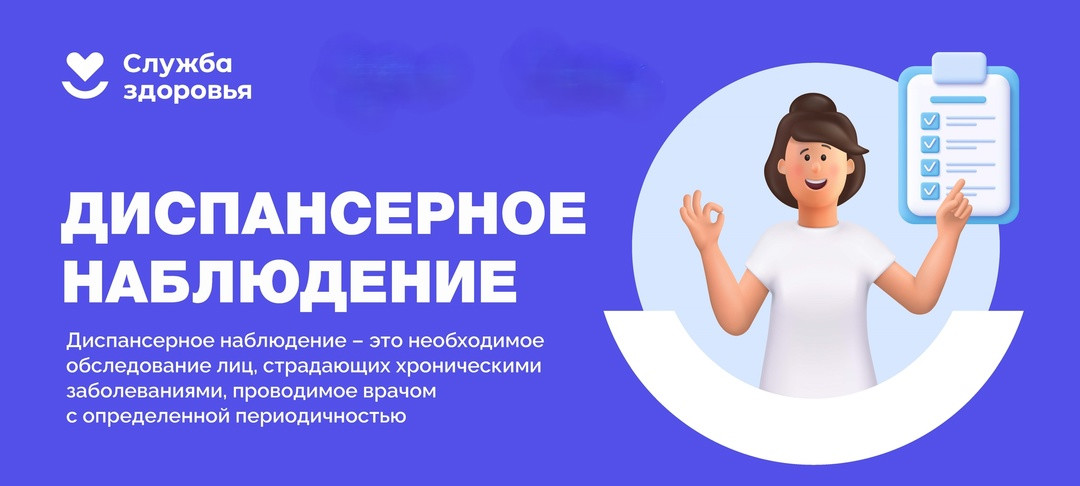Предисловие
«Каждый человек есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает;
под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история".
Генрих Гейне.
Слова, взятые эпиграфом, приведены А.И. Герценом в «Записках одного молодого человека». Позднее Герцен скажет: «Для того, чтоб писать свои воспоминания вовсе не надобно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком, – для этого достаточно быть просто человеком...»
Каждое воспоминание – это документ эпохи, отражающий не только внутренний мир автора (еще одну «вселенную» по выражению Г. Гейне), но и внешние события жизни общества, диалектические их взаимоотношения, представляющее интерес для историков и психологов. В этом отношении, думаю, небезынтересны выведенные в настоящих записках образы людей, их поведение в мирное и военное время, особенно в экстремальных условиях.
Подробное описание медицинской помощи в армейском районе фронтов Великой Отечественной войны с их положительными и отрицательными сторонами, может быть полезным для военных медиков преподавателей военной медицины, организаторов здравоохранения. А исследование зрительных функций в примитивнейших условиях, без специального оборудования и аппаратуры, особенно выявление симуляции слепоты и снижения зрения, несомненно пригодится офтальмологам – практикам.
До сих пор принято в военных воспоминаниях закрывать глаза на негативные действия военачальников, в частности, медицинских, что дорого обходится обществу. Описываемые в настоящих записках преступные факты в организации медико-санитарной службы, приведшие к гибели госпиталь, брошенный на длительное время без питания и медицинской помощи в деревне Острица Осташковского района Калининской области, остались до сих пор без внимания военно-медицинских историков и надлежащей оценки.
Пусть настоящие записки будут памятью о медиках, которым пришлось служить в тяжелейших условиях армейского района фронтов Великой Отечественной войны, где происходила основная хирургическая помощь раненым и первая специализированная помощь (нейрохирургическая, офтальмологическая, отоларингологическая, стоматологическая и др.).
Н.К. Хачатурова
" Мы дети страшных дней России.
Забыть не в силах ничего».
А. Блок
Коротко о себе
В 1940 г., окончив с отличием медицинский институт в Москве, я по распределению приехала в Рязань для специализаций по глазным болезням у доктора медицинских наук Н.А. Филиппова, заведовавшего глазным отделением Рязанской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Рязань представляла собой тихий патриархальный город, преимущественно с купеческой одно-двухэтажной застройкой и большими садами за каждым домом. В центре города красивый, хорошо сохранившийся кремль. Позади него обрыв, на дне которого маленькая речка - приток Оки. Сама красавица Ока видна чуть дальше, с ее пристанью, снующими пароходами и пляжем. После шумной Москвы тишина и какая-то умиротворенность мне очень импонировала. Но уже чувствовались предвестники надвигающейся военной грозы: все труднее и труднее становилось с продовольствием, росла сеть закрытых распределителей товаров, куда большинство населения доступа не имело.
Большое удовлетворение получила, войдя в коллектив громадной больницы, где отделения различного профиля возглавлялись крупными специалистами, поддерживавшими дух добропорядочности старой интеллигенции. Молодых врачей было немного. Встретили меня весьма приветливо. Главный врач больницы, впервые увидев меня на общебольничной конференции (накануне я оформлялась его заместителем), обратился ко мне с пушкинскими словами: «Откуда ты, прелестное дитя?» Мне было уже 22 года, но выглядела совсем юной. Иногда в городе меня спрашивали: «Девочка, в каком ты классе?» Я обижалась и старалась придать себе как можно больше солидности. Особенно тепло меня приняли в глазном отделении: мой шеф – доктор мед. наук Н.А. Филиппов и его ближайший помощник, впоследствии заслуженный врач РСФСР С.Б. Птица.
И началось мое обучение выбранной специальности. Сразу же была включена и в работу операционной, сначала в роли ассистента, а к концу специализации освоила большинство проводимых в то время глазных операций. Так как врачей в отделении не хватало, меня вскоре попросили приходить и после обеда, а также я в воскресные дни. Более того, мой шеф стал привлекать меня и к своим научным занятиям. Я все исполняла охотно, зная полезность приобретаемых знаний в будущей самостоятельной работе. Лишь однажды взроптала, когда он стал задавать мне на дом переводы с немецких журналов нужных ему статей. Ведь он знал немецкий гораздо лучше меня, ему делать переводы проще и быстрее. Ничего мне не возразив, он и не отменил своего распоряжения. Впоследствии и эти упражнения в немецком мне пригодились, особенно в разговоре с ранеными военнопленными при заполнении их историй болезней.
Мучаясь с этими переводами, я очень жалела, что в детстве не освоила иностранные языки в своей семье. Мать моя в совершенстве владела французским и неплохо знала немецкий. В детстве она читала мне книжки на этих языках, сразу же переводя прочитанное без словарей. Я как сейчас помню многие книжки в красных переплетах с золотым тиснением: «Серебряные коньки», «Маленькие женщины», «Хижина дяди Тома» и др. Если во время чтения в дом заходил посторонний, книжки эти моментально – прятались под диванную подушку. Боялись доносов и осуждения за «буржуазные предрассудки».
Надо заметить, что пролеткультовская психология на Северном Кавказе, где мы тогда жили, была очень сильна среди партийного начальства, включая и школьное. Никогда не забуду, как в тесном классе был поставлен вопрос о моем пребывании в пионерском отряде из-за моих буржуазных предрассудков. На собрании выступил пионервожатый (грязный, лохматый, великовозрастный парень, плохо учившийся, но переводившийся из класса в класс). Он заявил, что достоверно установлены мои тайные занятия музыкой у частной учительницы. «Видите, – продолжал он, – вечная чистюля, в косах ленты-бантики, а теперь еще и занятия музыкой». Я горько плакала, действительно все было так. О музыкальных уроках я не говорила даже своим ближайшим подругам, зная, что это преследуется. Город маленький, нашу семью в городе все знали, и моя «страшная» тайна была раскрыта. Учителя сидели на этом собрании опустив головы и молчали, никто не выступил в защиту своей лучшей ученицы. И только перед самим голосованием за мое исключение из пионерского отряда поднялся старый педагог и предложил не спешить, дать срок для исправления. Предложение его было принято. Придя домой в слезах, рассказала о происшедшем и отказалась от дальнейших музыкальных занятий. В косы стала вплетать тоненькие темные ленточки, не бросающиеся в глаза на моих темных волосах. А бабушку попросила не гладить мои блузы, чтобы не иметь выхоленного вида. Пионеркой осталась, но в комсомол сознательно не вступила, не желая покушения на свободу личности и чувство собственного достоинства, которое у меня было развито очень сильно. На протяжении всей жизни не переносила раболепия, подхалимства, как и хамства. Все это очень затрудняло мою служебную (вернее научную) карьеру в послевоенное время.
Моя бабушка, уроженка Санкт-Петербурга, пережившая четырех последних царей, никак не могла понять наше время и принять его ценности. Она открыто негодовала против всего, что считала неверным. И меня воспитывала по своим старинным идеалам. Мать целыми днями на службе – работала терапевтом в больнице, совместительствовала, занималась чтением лекций и другими общественными нагрузками. Да она и не обладала бойцовскими качествами бабушки. Отчим же – учитель математики в одной из школ города, вообще жил в вечном страхе, что за ним вот-вот «придут». И просто цепенел, когда бабушка с громким возмущением выключала радио, едва услышав славословия Сталину. Еще задолго до появления в политическом лексиконе выражения: культ личности Сталина, она его по-русски прозвала идолом, а массовое поклонение ему – идолопоклонством.
Через год моего пребывания в Рязани началась Великая Отечественная война и я сразу же была мобилизована в армию. В качестве врача – специалиста попала в группу глазной хирургии ОРМУ-19 (Отдельной роты медицинского усиления). Начальником этой группы оказался военврач 2-го ранга. Г-нов, которого я знала. Он заведовал Рязанским горздрав-отделом и без отрыва от службы еще до моего приезда специализировался по глазным болезням в нашей больнице. В мою бытность там он часто приходил в глазное отделение, но ни разу я не видела его в халате и смотревшим больных. Посидит в ординаторской, поболтает о том, о сем и удаляется. Врачи были с ним очень сдержаны, внешне любезны и старались не отказывать ему в просьбах. Поговаривали, что он был осведомителем в НКВД.
И вот я, военврач 3-го ранга, у него в подчинении. Кроме двух врачей, в группу входили три медицинские сестры, два санитара и шофёр грузовой полуторки, перевозившей нас, наше имущество и оснащение (хирургический глазной инвентарь, большой набор оптических стекол в деревянном ящике, таблицы для исследования остроты зрения, ящик с гнездами для флаконов с глазными каплями, керосиновая лампа).
По такому же принципу были сформированы и другие специализированные группы (ушная, нейрохирургическая, челюстно-лицевая и другие) и много общехирургических. Рентгенологическая группа состояла из врача-рентгенолога, рентгенотехника и двух санитаров. У них была специальная машина для перевозки рентгеновской установки. Командиром ОРМУ-19 назначен военврач 2-го ранга Н.Н. Концевой, по профессии хирург, работавший до этого в нашей же больнице.
Перед отправкой на фронт пошла на вещевой склад для получения военного обмундирования. Вещи мне дали очень большого размера и все на мне висело как на вешалке. Расписалась за получение и хочу уходить. Кладовщик-старичок остановил меня и сказал, чтобы я еще расписалась в графе личного оружия. Я уже знала, что оно выдавалось только врачам-мужчинам и не хотела брать лишнюю тяжесть. Он оглядел меня и с доброй улыбкой произнес: «Возьмите, может пригодиться». Так я получила еще новенькую портупею и наган в кобуре.
В полной военной экипировке меня случайно встретил заведующий Рязанским облздравотделом. П.Г. Демидов, человек внимательный и много сделавший мне и моей сокурснице (она работала в облздраве), с которой мы вместе жили, для создания нам надлежащих бытовых условий.
– Вы мобилизованы? – удивился он.
– Да, - гордо отвечаю. – И на днях отправляюсь на фронт.
– Я сейчас же позвоню военкому. Вы не должны ехать. С вашей субтильностью и неприспособленностью к жизни и... фронт. Больше пользы принесете здесь, в стационарном Рязанском госпитале. Вы ведь совершенно не представляете, в каких условиях Вам придется там находиться.
– Нет, не звоните, я еду. Вся молодежь сейчас на фронте, и я не хочу оставаться тыловой крысой, – гордо отчеканила я и пошла. Уже вдогонку слышу: «Вы, как мотылек летите на огонь, еще вспомните мои слова».
Забегая вперед, скажу, что много раз вспоминала его слова, особенно в окружении, почти уже погибая. После этой встречи я почувствовала неуверенность: ведь я знала свою физическую невыносливость, свою далеко негероическую натуру. Понимала также, что моя яркая и привлекательная внешность может быть дополнительным осложнением во фронтовых условиях (о чем свидетельствовал и намек старика из вещевого склада, снабдившего меня неположенным личным оружием). Но я решила быть там, где я нужнее: помогать раненым, среди которых мог оказаться и мой брат (я встретилась с ним только в конце войны, незадолго до его смерти).
Еду на фронт
На рассвете 22 июля 1941 года, то есть через месяц с начала войны, ОРМУ – 19 огромной колонной машин выехала на фронт. В Москве остановились в Химках, в небольшом лесочке, через дорогу от которого на крыше высотного здания стояли зенитные орудия. Разожгли костры, сбегали за водой и начали варить из выданного пшеничного концентрата кашу. Много молодежи, смех, песни под гитару. Весело и похоже на пикник на лоне природы. Война еще никак не укладывалась в нашем сознании, оставалась еще совершенно абстрактным понятием.
И вдруг завыла сирена. Сначала мы это приняли за учебную тревогу, которые в то время устраивались часто. Но тут забила зенитная установка на здании против нашего расположения и осколки ее снарядов посыпались на нас. «Тушить костер и по ма-ши-нам!» – прокричал командир. «А еще каша не поспела», – раздались голоса под смех окружающих. «Какая к черту каша?» – торопил нас командир. Это был первый налет вражеской авиации на Москву. Тогда их к городу не пропустил, но ночью они все же прорвались и бомбили Москву. Мы в это время были уже далеко.
Едем в направлении Бологое. Все приуныли, почувствовав реальную опасность. Молча жуем выданный вместо сорванного обеда хлеб со шпротами и запиваем водой из придорожного колодца. Вечереет. Видим по дороге впереди нашей колонны толпу возбужденных людей в гражданской одежде. Остановились. Командир из головной машины расспрашивает их, а суть разговора передается от машины к машине: будто бы вблизи Бологое немцы высадили десант, поэтому они нам советуют свернуть на другую дорогу, переждать до темноты на соседнем кладбище и дальше ехать, миновав Бологое. На кладбище и вокруг него было много зелени. Машины замаскировали ветками здесь же у дороги. Сами залегли между могилами или спрыгнули в три свежевырытые братские могилы. Они были глубокими и вместительными. В одной из них оказалась и я. Стоим, как сельди в бочке. Прислушиваемся, что делается на земле.
С наступлением темноты послышалась негромкая команда: «По машинам!» Помогая друг другу, все быстро вылезли. Я осталась одна, помочь мне некому. Земля осыпается между пальцами, ноги скользят по отвесной стене могилы и я, срываясь, падаю на дно ее. Кричать, звать на помощь, нарушая тишину, нельзя было. Уже послышались звуки заводимых машин на дороге. В страхе от мысли остаться в этом могильном плену я вся дрожу. И вдруг раздался негромкий мужской голос над могилой: «Здесь есть кто?» Прошу подать мне руки. С их помощью быстро выбираюсь и бегу на дорогу. Там уже первые машины начали двигаться. Нахожу свою машину, взбираюсь и мы отъезжаем.
На душе жутко. Темное небо беспрестанно озаряется лучами прожекторов, ищущих вражеские самолеты. Передо мной вновь и вновь встает картина только что пережитого ужаса: кладбище под Бологое, темная ночь и я в глубокой могиле безуспешно пытаюсь выкарабкаться из неё. Со страхом думаю о будущем и вспоминаю предупреждения доброжелательных людей. Но поздно…
Последующие дни мы провели в лесу: Новгородской области на берегу маленькой речки. Стояли прекрасные солнечные дни. Чудесная природа средне – русской полосы, с ее озерами, перелесками, малинниками и симпатия ко мне окружающих – все это быстро вернуло мне самообладание, веру в то, что все будет хорошо. Товарищи помогли мне освоить мой наган: я научилась разбирать его, чистить и стрелять из него. Вернулся из трехдневного отъезда командир, побывав в санитарном управлении Северо-Западного фронта, расположенного под Валдаем и получив для нас назначения. И двинулись мы в Валдай. Здесь узкоспециализированные группы усиления и часть общехирургических остались работать в многочисленных госпиталях города. Другая часть общехирургических групп направлена еще ближе к передовой линии на помощь медсанбатам и полевым подвижным госпиталям первой линии.
Во время отступления
Вспоминая Валдай 1941 года. Чудное его озеро с совершенно прозрачной водой, где как в зеркале отражается красивейший Иверский монастырь. Множество госпиталей. Размещены они преимущественно в зданиях школ. Операционные устраивались в актовых залах и в наиболее крупных классных комнатах, на много столов. Среди большинства молодых врачей работали опытные хирурги, у которых училась молодежь. И я здесь впервые практически приобщилась к общей хирургии. В ту пору еще не было эвакуации по назначению в специализированные госпитали. Раненые шли общим потоком. Глазных среди них было немного. В нашем госпитале, где работали специализированные группы ОРМУ-19, глазных раненых обрабатывала я. Но большую часть времени занималась общехирургическими: рассекала и иссекала раны, ампутировала конечности, ушивала открытые пневмотораксы, переливала консервированную кровь, делала межрёберные новокаиновые блокады и шейные ваго-симпатические блокады по А.В. Вишневскому, шинировала конечности (гипсование на фронте введено позднее), ассистировала опытным хирургам при полостных операциях на животе и груди. Черепно-мозговые операции производились нейрохирургами. Челюстно-лицевых специалистов не хватало, приходилось самим шинировать проволокой сломанные челюсти. Врачи уха-горла-носа обрабатывали своих раненых. Но все узкие специалисты одновременно занимались и общехирургическими обработками.
Валдай был переполнен ранеными. Их не успевали обрабатывать, чтобы затем эвакуировать в тыл. А новые все прибывали и прибывали – наши войска отступали с кровопролитнейшими боями. Тогда начальство решило не разгружать полностью часть прибывших в Валдай поездов, снимать с них лишь нуждающихся в срочной медицинской помощи, а остальных везти дальше в тыл. Посылали нас, молодых врачей быстро пробежать по вагонам прибывшего поезда, бегло осмотреть раненых и указать следовавшим за ними санитарам, кого снимать. Во избежание бомбежки, поезда на станции не задерживались более 20-30 минут.
Работали в госпиталях круглосуточно, на сон отводилось шесть часов. Нашей группе повезло – достались ночные часы отдыха. Но вскоре это оказалось большим неудобством. Немцы ежедневно стали сбрасывать с самолетов листовки населению с призывом срочно покинуть город, так как к 12 часам ночи от него не останется камня на камне. Нам было приказано ночами не оставаться в помещениях, а спать в вырытых во дворе дома колхозника, где мы обитали, щелях. Боясь простудиться, я в щели не ходила, спала в помещении. В щелях люди не высыпались, мерзли по утрам. Поэтому через несколько дней последовал другой приказ – на ночь ездить в лес. Но и это не приносило отдыха: пока туда доберемся, разыщем в темноте колышки для укрепления плащ-палаток, а утром соберем последние и доедем до города, на сон оставалось не более трех часов. И какой это сон: на росистой траве холодно, влажно. Не спали, а мучились. Но так продолжалось до конца нашего пребывания в Валдае, а это около месяца. Немцы не смогли выполнить своих угроз разбомбить город, он так и остался у нас.
Военная обстановка все усложнялась и усложнялась. Поэтому нашу группу глазной хирургии пришлось использовать и как общехирургическую для помощи медсанбатам и полевым подвижным госпиталям первой линии. Отступление наших войск шло настолько быстро, что иногда мы получали предписание выехать в какую-нибудь деревню, а она еще до нашего приезда оказывалась у немцев. Во многих случаях спасал положение начальник нашей группы Г-ов. Он прошел рядовым первую мировую войну. Позднее, по окончании медицинского института, служил только по административной линии. Медициной, как таковой, не интересовался, но научился хорошо ориентироваться в различных обстоятельствах, войти в доверие к начальству, узнавать первым новости и извлекать из них пользу для себя. А если в своих действиях попадал в неудобное положение, начинал разыгрывать из себя шута и все заканчивалось смехом. Позерство и лицемерие доходили до того, что порою трудно было понять, серьезно ли говорит или шутит. В общем, это был человек себе на уме.
На пустынной дороге в местности брошенной населением, он останавливал нашу машину у любого встречного и расспрашивал, где в данный момент находятся наши и где немцы. Особенно точные сведения давали раненые, бредущие в тыл по одиночке или группами, в окровавленных повязках и самодельных шинах, помогая друг другу. Если добираться до нужного нам госпиталя становилось рискованно, он сразу же поворачивал машину. На мой наивный вопрос, почему мы свернули, обычно произносил: «Молчи, дочка». Старше меня на 20 лет, он в неофициальной обстановке называл меня дочкой.
Вспоминаю случай, когда мы умышленно приехали не в тот госпиталь, куда предназначались. Я очень беспокоилась, что нас могут здесь не принять, а в дальнейшем наказать за своеволие. И что же? Въезжаем в маленькую деревеньку и видим массу раненых, лежащих и сидящих на зеленой траве по всей улице. В двух избах во всю орудуют медики – идет ускоренная хирургическая обработка, экстренные операции. Санитары выносят в тазах и ведрах окровавленный перевязочный материал и удаленные части конечностей, сбрасывая их в небольшой овраг. Г-ов находит на улице начальника госпиталя и по всей уставной форме, даже утрируя ее, рапортует: «Товарищ начальник, группа глазной хирургии прибыла в Ваше распоряжение». Издерганный опасной обстановкой, задержкой эвакуации раненых и все продолжающимся поступлением новых, начальник даже не спросил командировочного предписания, а только раздраженно воскликнул: «Какая к черту здесь глазная хирургия, видите, что творится! Идите быстрее в перевязочную и работайте». И мы включились в обработку измученных ожиданием раненых. Все, кроме Г-ова, который нигде и никогда не перевязал ни одного раненого. Он и тут все ходил, чего-то организовывал, утрясал и не забывал справляться у шоферов, привозивших нам новых раненых, об обстановке поблизости. Через два дня раненых эвакуировали, госпиталь свертывался и нас отпустили. В то ужасное время отступления наших войск некоторые из общехирургических групп ОРМУ, работавших на базе медсанбатов и полевых подвижных госпиталей, вместе с ними попали в плен к немцам.
В начале сентября 1941 года специализированные группы ОРМУ-19 направлены в крупный госпиталь, дислоцированный в селе Едрово (у железнодорожной станции того же названия) – это в 30 км по шоссе юго-восточнее Валдая. Начальником госпиталя был военврач 1-го ранга Кайтмазов. Здесь впервые мы смогли развернуть глазное отделение. Оно разместилось в двухэтажном здании, через дорогу от других корпусов госпиталя. Последние окнами были обращены на площадь, в центре которой стояла церковь с очень массивными стенами, из-за которых она тоже использовалась для нужд госпиталя. Окна же глазного отделения выходили на широкую центральную улицу, и совсем обнаглевшие в ту пору фашисты летали вдоль нее на высоте второго этажа и обстреливали сидевших у раскрытых окон раненых. И это несмотря на огромнейший знак красного креста на белом фоне, висевший на этой же стороне здания. Из-за этих обстрелов были и вторично раненые, к счастью, не тяжело. Пришлось запретить открывать окна и сидеть раненым около них, хотя теплая солнечная погода так и манила подышать свежим воздухом. Из общего потока раненых, поступавших в сортировочное отделение госпиталя, я отбирала своих глазных. У многих из них кроме повреждений глаз, имелись и другие травмы. Поэтому в глазной операционной приходилось обрабатывать самые разнообразные раны. В более тяжелых случаях раненые из сортировки подавались в общехирургическую операционную, куда я приходила только обрабатывать рану глаза и его придатков. До обеда спешила управиться в глазном отделении, чтобы вторую половину дня быть в общехирургической операционной и помогать там.
Раз в неделю несла суточное дежурство по госпиталю. Раненые поступали в сортировку круглые сутки. Их регистрировали, измеряли температуру, а потом осматривал их дежурный врач, не снимая повязки, и устанавливая очередность подачи в операционно-перевязочный блок. С признаками анаэробной инфекции раненые срочно доставлялись в специальную, газовую перевязочную. Раненых с газовой гангреной можно было узнать сразу же по прибытию их в сортировку: они были очень беспокойны, стонали, кричали от боли в распираемых газами тканях; температура поднималась до 39-40, а при пальпации конечности выше и ниже повязки отчетливо определялась крепитация от пузырьков газа в тканях. Из-за большого количества раненых, нуждавшихся в срочной хирургической обработке, несрочным приходилось ждать и по несколько часов. Во избежание развития травматического шока многим делалась инъекция морфия. Большая бутыль стерильного раствора его хранилась у дежурного врача в шкафу под замком. Из нее отливалась часть раствора в стерильную пол-литровую банку, которую сестра и брала для инъекций. Бывало не успеешь оглянуться, как сестра уже бежит с пустой банкой за новой порцией наркотика.
С середины октября фронт на нашем участке несколько стабилизировался, раненых поубавилось. Мне разрешили не приходить по вечерам в общехирургическую операционную и я, если не дежурила по госпиталю, могла вволю выспаться. Наша группа глазной хирургии жила неподалеку от госпиталя, на берегу красивого озера, за которым виднелся лес, а на правом берегу озера стояли зенитные установки. Хозяева дома переселились к соседям, отдав нам целиком свой флигель. В заде расположилась я с тремя сестрами. Г-ов устроился в маленькой пристройке у входа, санитары – на кухне, а шофер должен был ночевать в своей машине. Пищу нам санитары приносили из госпитальной кухни домой.
В этот период жизни ко мне пришла первая и очень большая любовь, сохранившаяся и до ныне. Довольно романтическим образом познакомился со мной О. – врач стоявшей в Едрове зенитно-артиллерийской части. Была прекрасная осень. Заходившее за озером солнце ярко освещало наш деревянный дом и палисадник перед ним с высокими желтыми цветами. Каждый день О. ожидал меня по выходе из госпиталя и провожал домой. Подолгу мы простаивали под животворными лучами солнца у входа в дом, разговаривали и не хотелось расходиться. Через несколько дней знакомства я пригласила его в дом, познакомила со всей своей компанией и он, если я не дежурила по госпиталю, стал заходить к нам по вечерам. Мы слушали добытые где-то санитарами прекрасные старинные пластинки с записями русских романсов и цыганских песен. Шутили, бодрились, но тяжелое положение в стране – немцы уже стояли под Москвой, навевало на всех тревожное чувство, а на наши отношения с О. печальную неизбежность скорой разлуки. И, действительно, не прошло и трех недель нашего с ним знакомства, как О. со своей частью должен был срочно переезжать куда-то под Бологое. Ранним утром он пришел сообщить мне о своем внезапном отъезде. Обменялись адресами. Попрощались в обоюдном расстройстве. Как сейчас слышу его последние слова: «Будет жизнь, будет встреча». И мы расстались.
Далее роман продолжался в переписке. Писал он часто, иногда по два письма в день. Это были чудесные, дышащие любовью и надеждами на будущее письма. Я, к сожалению, вскоре попала в очень тяжелые условия, а потом и в окружение. Поэтому писала с большими перерывами, урывками, наспех, в кошмарной обстановке. Щадя его, я не могла сообщить о всех своих злоключениях, даже тех, что в несколько замаскированном виде военная цензура могла и пропустить.
В середине ноября 1941 года ОРМУ-19, принадлежавшая Северо-Западному фронту, разделилась на две армейские. Одна половина сохранившая свой номер, с моей прежней группой глазной хирургии попала в будущую 3-ю ударную армию. Вторая, где оказалась я – в будущую 4-ю ударную армию. С этой армией, в составе ОРМУ-26, я и прошла всю последующую войну с фашистской Германией. На этом я могла бы и закончить настоящую главу воспоминаний. Но мне хочется дополнить ее послесловием, полностью раскрывающим фальшивый образ Г-ова и благоприятную обстановку для продвижения таких лиц в эпоху сталинизма.
Еще в Едрове у нас с ним начались трения. Как-то он принес толстый журнал, чтобы я в него записывала копии всех историй болезней, проходивших через глазное отделение. «После войны по этим записям будем двигать науку»,- с пафосом заявил он. Я отказалась от этой дополнительной нагрузки, в ущерб основной. Тогда он посадил дублировать истории болезней в свой журнал лучшую операционную сестру, что не могло не сказаться негативно на ее основных обязанностях и, следовательно, на обслуживании раненых. Конечно, я не могла быть этим довольна. Тем более, что он мог сам выполнять эту работу для себя. Ведь в отделении он ничего не делал, да и почти не бывал. Все бегал по начальству госпитальному и ОРМУ-вскому.
Спустя много лет после войны, переехав снова в Рязань, я стала работать в прежней больнице, ставшей к тому времени клинической базой Рязанского медицинского института им. И.П. Павлова. Здесь я и встретилась снова с Г-вым и медицинскими сестрами. От сестер узнала, что на мое место тогда в Едрове прибыл глазник Т-г и оставался в их группе до конца войны. Ему пришлось, как и мне до него, одному вести всю врачебную работу в глазном отделении госпиталей. Г-ов и ему не помогал. Журналы, начатые в Едрове, продолжались заполняться сестрами с подлинных историй болезней.
Любопытную историю с кандидатской диссертацией Г-ова поведал мне заслуженный врач РСФСР С.Б. Птица, который был свидетелем следующей сцены. Вскоре после войны появился Г-ов с большой стопкой толстых журналов и, встав в картинную позу перед сидевшим за своим столом доктором мед. наук Н.А. Филипповым, бия себя в грудь, зычным и угрожающим голосом заявил: «Вы здесь в тылу отсиживались, пока мы там, на фронте кровь проливали. Теперь извольте написать мне диссертацию по этим журналам. Я через полгода приеду за ней». Робкие попытки старого интеллигента отделаться от этого наглого требования ни к чему не привели. С Г-овым по-прежнему боялись портить отношения. И пришлось старику писать ему диссертацию: «Характеристика боевых поражений глаз в Великую Отечественную войну» на материале привезенных копий историй болезней. Между прочим, ни одной царапины на фронте он не получил, чтобы хоть каплю крови пролить. Сделавшись кандидатом мед. наук, он устроился ассистентом на кафедру глазных болезней, где и прослужил до конца дней своих.
И вот такой нечестный человек, демагог, лицемер и циник сделался воспитателем юношества. Такой профан в офтальмологии, а может быть и в медицине – преподавателем в высшем учебном заведении. Я могла наблюдать, как он вел практические занятия со студентами: «Вот вам больные по сегодняшним темам, вот их истории болезней. Читайте и смотрите больных». Сам удалялся в ординаторскую поболтать на вольные темы. Студенты открывали учебники и по возвращению преподавателя отвечали по учебнику о заболевании, а не конкретно по данному больному. Сам Г-ов так и не научился смотреть глазное дно и другим методикам простейшего обследования глазных больных. Так как сам он не оперировал, направлял своих студентов в операционную к другим врачам. Там они чувствовали себя неприкаянно – пояснений по ходу операции никто им не давал. Зато на экзамен студенты предпочитали идти к нему: без долгих расспросов он выставлял хорошую отметку.
Все сотрудники кафедры и больницы знали о его профессиональной непригодности, посмеивались над ним, но добродушно, объясняя его шутовское поведение старческими причудами. Не знаю, действительно ли он был когда-нибудь осведомителем НКВД или умышленно разыгрывал эту роль по карьеристическим соображениям. Но надо быть людям столь запуганными сталинскими репрессиями, чтобы продвижение подобных аферистов шло так успешно. Занимая чужие места в институтах, они не только не давали нужных знаний студентам, но и преграждали путь в науку истинным ученым, отрицательно влияли на нравственное развитие общества.
Подготовка к большому наступлению
16 ноября 1941 года: приехала я в поселок Годыши (км в 50 южнее Едрова) в полевой подвижной госпиталь № 2227, относящийся к 27 армии, позднее переименованной в 4-ю ударную армию. Боевые действия на этом участке фронта не прекращались то усиливаясь, то несколько стихая. Госпиталь переполнен ранеными. Теснота в помещениях страшная, а расширяться дальше без значительного ущерба для оставшихся жителей поселка нельзя было. В наиболее крупном доме, где была операционная, устроили в какой-то клетушке на полу общую постель для всех врачей-женщин. Присесть, чтобы написать письмо было негде. Приткнувшись в сортировке к подоконнику, заваленному какими-то бумагами, стоя, я наскоро отвечала на письма О. на каких-то клочках бумаги для историй болезней.
В этом госпитале, кроме штатных госпитальных врачей, работали и специализированные группы ОРМУ-26, куда и я теперь стала относиться. Здесь я познакомилась с моим новым начальником группы глазной хирургии А.А. Агеевым. Это был пожилой человек с 30-летним офтальмологическим стажем, интеллигентный, благожелательный, напоминавший всем своим обликом старых земских врачей. Встретил он меня приветливо и до конца совместной работы относился самым наилучшим образом.
Он поведал мне свою трагикомическую историю мобилизации в армию. Жил он в г. Алатырь Чувашской АССР. Вскоре после начала войны получил мобилизационное предписание и был удивлен: по закону его в 60 лет должны были уже снять с военного учета, а его призывают в армию. Явился к военкому, показывает паспорт, не сомневаясь, что его сразу же и отпустят. Ан нет. Военком рассказал о своем безвыходном положении: для фронта требуют оперирующих глазников, а таких, кроме него, в городе нет. Умоляет выручить их: доехать с воинским эшелоном до Москвы, там разберутся и его вернут обратно. Забежал попрощаться с семьей, сказав, что только до Москвы и обратно. Но поезд, не заезжая в Москву, повернул к северу и привез его на Северо-Западный фронт. Подумал, что здесь узнают о его возрасте и отпустят. Но никто с ним об этом и говорить не стал. Сразу же попал в какой-то большой прифронтовой госпиталь, переполненный ранеными. В операционной на многих столах шла хирургическая работа. Он стоял в сторонке и размышлял как ему все-таки добиться разрешения на возвращение домой. Вдруг видит на соседнем столе хирург грубо зашивает раненые веки молодому человеку. Не выдержал, вскричал: «Что Вы делаете? Будут же обезображивающие рубцы с выворотом век и постоянным слезотечением. Подождите, я сейчас вымою руки и сам зашью». Другие врачи, узнав, что он глазник, стали просить его посмотреть то одного, то другого раненого, а нейрохирург умолял посмотреть глазное дно нескольким лицам с черепномозговой травмой. В общем, как попал в водоворот оказания помощи раненым, перестал и думать о возвращении домой. А когда стала организовываться ОРМУ-26, его сделали начальником группы глазной хирургии.